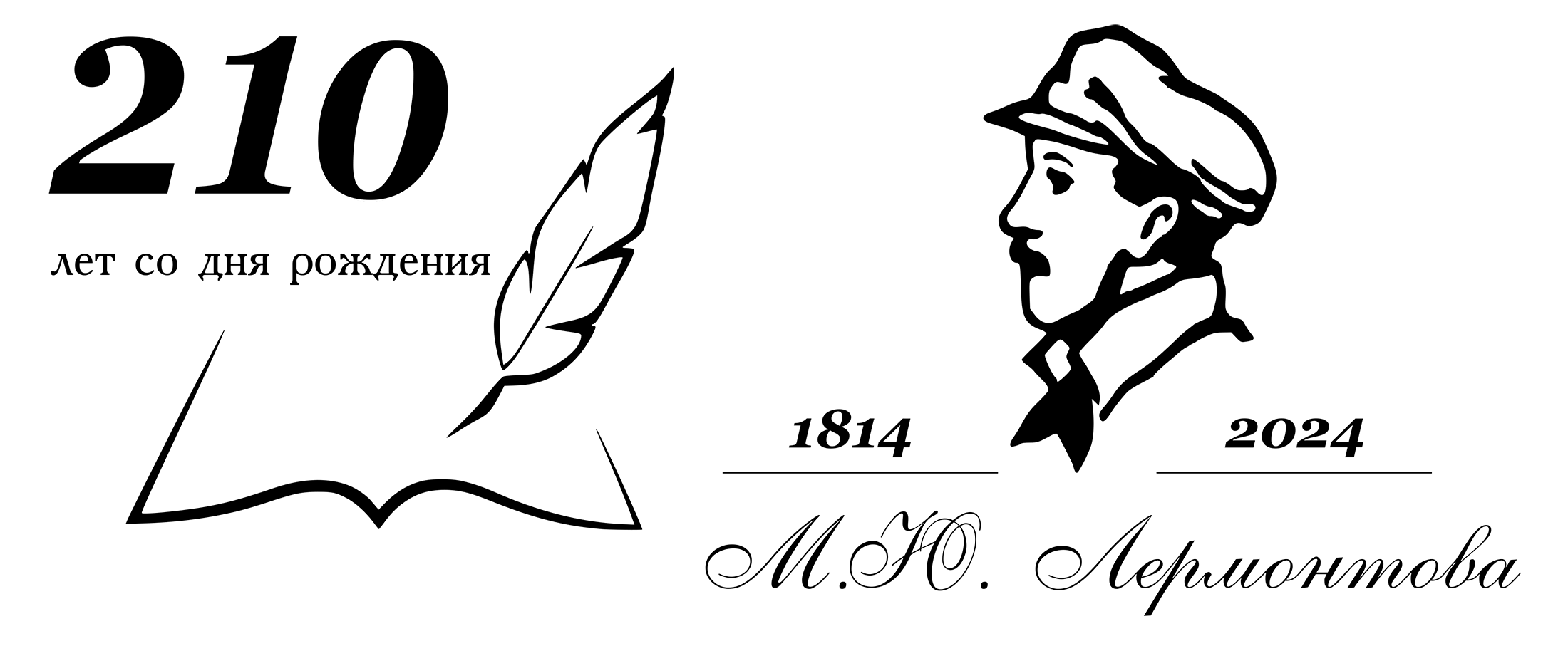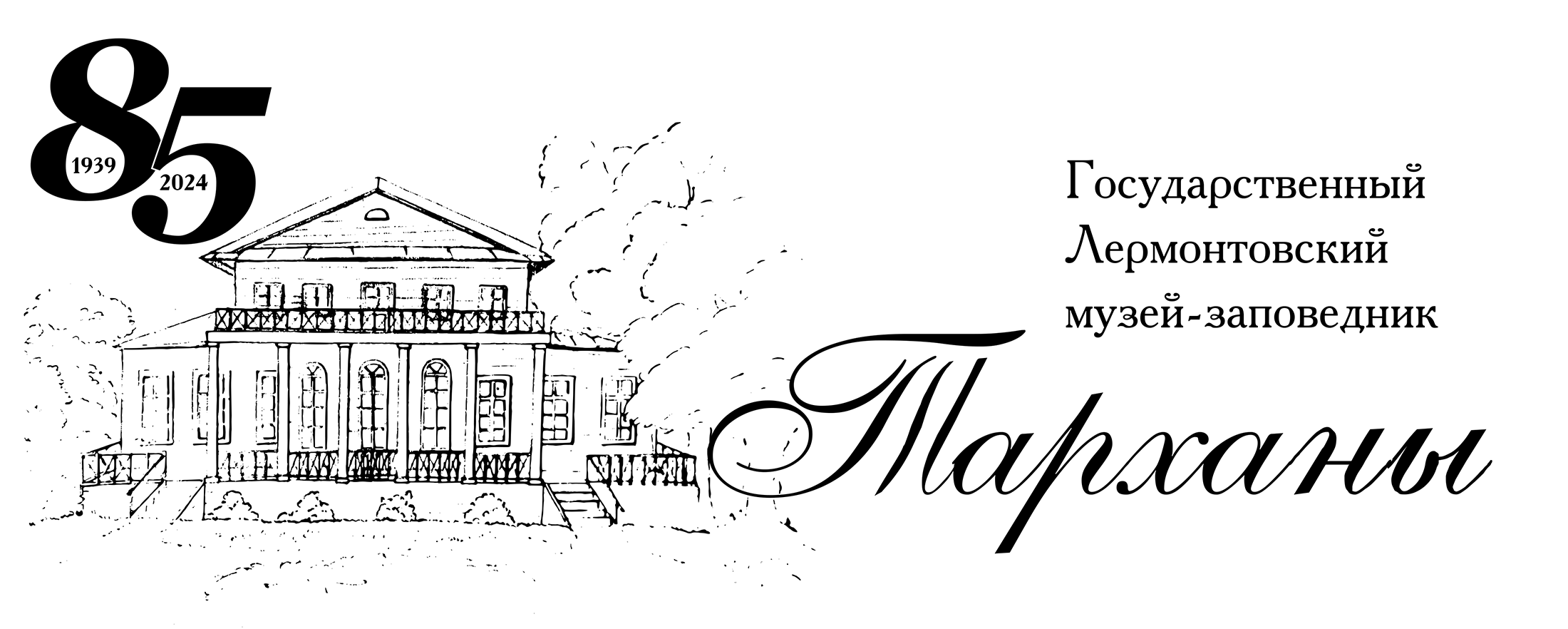За последнее время появилось несколько статей и отрывочных рассказов о смерти Лермонтова, в коих мое имя было упомянуто в числе свидетелей дуэли. В приложениях к «Запискам» г-жи Хвостовой помещено заявление Н.С. Мартынова, который прямо ссылается на мои показания. В тех же приложениях к «Запискам» г-жи Хвостовой и в статье журнала «Всемирный труд» сообщается много подробностей, столько же интересных, сколько и неверных1.
Это вынуждает меня прервать тридцатилетнее молчание, чтобы восстановить факты и описать это горестное происшествие, которому я действительно имел несчастье быть свидетелем на двадцать втором году моей жизни. Молчал же я по сие время потому, что не считал себя вправе, по смерти одного из противников, без уполномочия другого, живого, излагать мое мнение о событии, в свидетели коего я был приглашен по доверенности обеих сторон. Но тридцатилетняя давность, посмертная слава Лермонтова и, наконец, заявление Мартынова, напечатанное в «Русской старине»2 и вызывающее меня к сообщению подробностей, все это побудило меня сказать несколько слов в ответ на неточные и пристрастные отзывы. В июле месяце 1841 года Лермонтов, вместе с своим двоюродным братом А.А. Столыпиным3 и тяжело раненным М.П. Глебовым4 возвратились из экспедиции, описанной в стихотворении «Валерик», для отдыха и лечения в Пятигорск5. Я с ними встретился, и мы поселились вместе в одном доме, кроме Глебова, который нанял квартиру особо. Позже подъехал к нам князь Трубецкой, которому я уступил половину моей квартиры.
Мы жили дружно, весело и несколько разгульно, как живется в этом беззаботном возрасте, двадцать – двадцать пять лет. Хотя я и прежде был знаком с Лермонтовым, но тут узнал его коротко, и наше знакомство, не смею сказать наша дружба, были искренны, чистосердечны. Однако глубокое уважение к памяти поэта и доброго товарища не увлечет меня до одностороннего обвинения того, кому, по собственному его выражению, злой рок судил быть убийцею Лермонтова.
В Лермонтове (мы говорим о нем как о частном лице) было два человека: один добродушный для небольшого кружка ближайших своих друзей и для тех немногих лиц, к которым он имел особенное уважение, другой – заносчивый и задорный для всех прочих его знакомых.
К этому первому разряду принадлежали в последнее время его жизни прежде всех Столыпин (прозванный им же Монго), Глебов, бывший его товарищ по гусарскому полку, впоследствии тоже убитый на дуэли князь Александр Николаевич Долгорукий6, декабрист М.А. Назимов и несколько других ближайших его товарищей. Ко второму разряду принадлежал по его понятиям весь род человеческий, и он считал лучшим своим удовольствием подтрунивать и подшучивать над всякими мелкими и крупными странностями, преследуя их иногда шутливыми, а весьма часто и язвительными насмешками.
Но, кроме того, в Лермонтове была черта, которая трудно соглашается с понятием о гиганте поэзии, как его называют восторженные его поклонники, о глубокомысленном и гениальном поэте, каким он действительно проявился в краткой и бурной своей жизни.
Он был шалун в полном ребяческом смысле слова, и день его разделялся на две половины между серьезными занятиями и чтениями, и такими шалостями, какие могут прийти в голову разве только пятнадцатилетнему школьному мальчику; например, когда к обеду подавали блюдо, которое он любил, то он с громким криком и смехом бросался на блюдо, вонзал свою вилку в лучшие куски, опустошал все кушанье и часто оставлял всех нас без обеда. Раз какой-то проезжий стихотворец пришел к нему с толстой тетрадью своих произведений и начал их читать; но в разговоре, между прочим, сказал, что едет из России и везет с собой бочонок свежепросольных огурцов, большой редкости на Кавказе; тогда Лермонтов предложил ему прийти на его квартиру, чтобы внимательнее выслушать его прекрасную поэзию, и на другой день, придя к нему, намекнул на огурцы, которые благодушный хозяин и поспешил подать. Затем началось чтение, и покуда автор все более и более углублялся в свою поэзию, его слушатель Лермонтов скушал половину огурчиков, другую половину набил себе в карманы и, окончив свой подвиг, бежал без прощанья от неумолимого чтеца-стихотворца7.
Обедая каждый день в Пятигорской гостинице, он выдумал еще следующую проказу. Собирая столовые тарелки, он сухим ударом в голову слегка их надламывал, но так, что образовывалась только едва заметная трещина, а тарелка держалась крепко, покуда не попадала при мытье посуды в горячую воду; тут она разом расползалась, и несчастные служители вынимали из лохани вместо тарелок груды лома и черепков. Разумеется, что эта шутка не могла продолжаться долго, и Лермонтов поспешил сам заявить хозяину о своей виновности и невинности прислуги и расплатился щедро за свою забаву.
Мы привели эти черты, сами по себе ничтожные, для верной характеристики этого странного игривого и вместе с тем заносчивого нрава. Лермонтов не принадлежал к числу разочарованных, озлобленных поэтов, бичующих слабости и пороки людские из зависти, что не могут насладиться запрещенным плодом; он был вполне человек своего века, герой своего времени: века и времени, самых пустых в истории русской гражданственности. Но, живя этой жизнию, к коей все мы, юноши тридцатых годов, были обречены, вращаясь в среде великосветского общества, придавленного и кассированного после катастрофы 14 декабря, он глубоко и горько сознавал его ничтожество и выражал это чувство не только в стихах «Печально я гляжу на наше поколенье», но и в ежедневных, светских и товарищеских своих сношениях. От этого он был, вообще, нелюбим в кругу своих знакомых в гвардии и в петербургских салонах8; при дворе его считали вредным, неблагонамеренным и притом, по фрунту, дурным офицером, и когда его убили, то одна высокопоставленная особа изволила выразиться, что «туда ему и дорога»9. Все петербургское великосветское общество, махнув рукой, повторило это надгробное слово над храбрым офицером и великим поэтом.
Итак, отдавая полную справедливость внутренним побуждениям, которые внушали Лермонтову глубокое отвращение от современного общества, нельзя, однако, не сознаться, что это настроение его ума и чувств было невыносимо для людей, которых он избрал целью своих придирок и колкостей, без всякой видимой причины, а просто как предмет, над которым он изощрял свою наблюдательность.
Однажды на вечере у генеральши Верзилиной Лермонтов в присутствии дам отпустил какую-то новую шутку, более или менее острую, над Мартыновым. Что он сказал, мы не расслышали; знаю только, что, выходя из дома на улицу, Мартынов подошел к Лермонтову и сказал ему очень тихим и ровным голосом по-французски: «Вы знаете, Лермонтов, что я очень часто терпел ваши шутки, но не люблю, чтобы их повторяли при дамах», – на что Лермонтов таким же спокойным тоном отвечал: «А если не любите, то потребуйте у меня удовлетворения». Больше ничего в тот вечер и в последующие дни, до дуэли, между ними не было, по крайней мере, нам, Столыпину, Глебову и мне, неизвестно, и мы считали эту ссору столь ничтожною и мелочною, что до последней минуты уверены были, что она кончится примирением. Тем не менее все мы, и в особенности М.П. Глебов, который соединял с отважною храбростью самое любезное и сердечное добродушие и пользовался равным уважением и дружбою обоих противников, все мы, говорю, истощили в течение трех дней10 наши миролюбивые усилия без всякого успеха. Хотя формальный вызов на дуэль и последовал от Мартынова, но всякий согласится, что вышеприведенные слова Лермонтова «потребуйте от меня удовлетворения» заключали в себе уже косвенное приглашение на вызов, и затем оставалось решить, кто из двух был зачинщик и кому перед кем следовало сделать первый шаг к примирению.
На этом сокрушились все наши усилия; трехдневная отсрочка не послужила ни к чему, и 15 июля часов в шесть-семь вечера мы поехали на роковую встречу; но и тут в последнюю минуту мы, и я думаю сам Лермонтов, были убеждены, что дуэль кончится пустыми выстрелами и что, обменявшись для соблюдения чести двумя пулями, противники подадут себе руки и поедут... ужинать.
Когда мы выехали на гору Машук и выбрали место по тропинке, ведущей в колонию (имени не помню)11, темная, громовая туча поднималась из-за соседней горы Бештау.
Мы отмерили с Глебовым тридцать шагов; последний барьер поставили на десяти и, разведя противников на крайние дистанции, положили им сходиться каждому на десять шагов по команде «марш». Зарядили пистолеты. Глебов подал один Мартынову, я другой Лермонтову, и скомандовали: «Сходись!» Лермонтов остался неподвижен и, взведя курок, поднял пистолет дулом вверх, заслоняясь рукой и локтем по всем правилам опытного дуэлиста. В эту минуту, и в последний раз, я взглянул на него и никогда не забуду того спокойного, почти веселого выражения, которое играло на лице поэта перед дулом пистолета, уже направленного на него. Мартынов быстрыми шагами подошел к барьеру12 и выстрелил. Лермонтов упал, как будто его скосило на месте, не сделав движения ни взад, ни вперед, не успев даже захватить больное место, как это обыкновенно делают люди раненые или ушибленные13.
Мы подбежали. В правом боку дымилась рана, в левом – сочилась кровь, пуля пробила сердце и легкие.
Хотя признаки жизни уже видимо исчезли, но мы решили позвать доктора. По предварительному нашему приглашению присутствовать при дуэли, доктора, к которым мы обращались, все наотрез отказались. Я поскакал верхом в Пятигорск, заезжал к двум господам медикам, но получил такой же ответ, что на место поединка по случаю дурной погоды (шел проливной дождь) они ехать не могут, а приедут на квартиру, когда привезут раненого.
Когда я возвратился, Лермонтов уже мертвый лежал на том же месте, где упал; около него Столыпин, Глебов и Трубецкой. Мартынов уехал прямо к коменданту объявить о дуэли.
Черная туча, медленно поднимавшаяся на горизонте, разразилась страшной грозой, и перекаты грома пели вечную память новопреставленному рабу Михаилу.
Столыпин и Глебов уехали в Пятигорск, чтобы распорядиться перевозкой тела, а меня с Трубецким оставили при убитом14. Как теперь, помню странный эпизод этого рокового вечера; наше сиденье в поле при трупе Лермонтова продолжалось очень долго, потому что извозчики, следуя примеру храбрости гг. докторов, тоже отказались один за другим ехать для перевозки тела убитого. Наступила ночь, ливень не прекращался...15 Вдруг мы услышали дальний топот лошадей по той же тропинке, где лежало тело, и, чтобы оттащить его в сторону, хотели его приподнять; от этого движения, как обыкновенно случается, спертый воздух выступил из груди, но с таким звуком, что нам показалось, что это живой и болезный вздох, и мы несколько минут были уверены, что Лермонтов еще жив.
Наконец, часов в одиннадцать ночи, явились товарищи с извозчиком, наряженным, если не ошибаюсь, от полиции. Покойника уложили на дроги, и мы проводили его все вместе до общей нашей квартиры. Вот и все, что я могу припомнить и рассказать об этом происшествии, случившемся 15 июля 1841 года и мною описываемом в июле 1871 года, ровно через тридцать лет. Если в подробностях вкрались ошибки, то я прошу единственного оставшегося в живых свидетеля Н.С. Мартынова их исправить. Но за верность общего очерка я ручаюсь.
Нужно ли затем возражать на некоторые журнальные статьи, придающие, для вящего прославления Лермонтова, всему этому несчастному делу вид злонамеренного, презренного убийства? Стоит ли опровергать рассказы вроде того, какой приведен в статье «Всемирного труда» (1870 года № 10), что будто бы Мартынов, подойдя к барьеру, закричал: «Лермонтов! Стреляйся, а не то убью», и проч., проч.; наконец, что должно признать вызовом, слова ли Лермонтова «потребуй у меня удовлетворения» или последовавшее затем и почти вынужденное этими словами самое требование от Мартынова.
Положа руку на сердце, всякий беспристрастный свидетель должен признаться, что Лермонтов сам, можно сказать, напросился на дуэль и поставил своего противника в такое положение, что он не мог его не вызвать16.
Я, как свидетель дуэли и друг покойного поэта, не смею судить так утвердительно, как посторонние рассказчики и незнакомцы, и не считаю нужным ни для славы Лермонтова, ни для назидания потомства обвинять кого-либо в преждевременной его смерти. Этот печальный исход был почти неизбежен при строптивом, беспокойном его нраве и при том непомерном самолюбии или преувеличенном чувстве чести (point d'honneur), которое удерживало его от всякого шага к примирению.
1 Речь идет о статье П.К. Мартьянова «Поэт М.Ю. Лермонтов по запискам и рассказам современников» (Всемирный труд, 1870, № 10, с. 581 – 604). Мартьянов, в свою очередь, обвинял Васильчикова в стремлении «ослабить до известной степени нравственную его ответственность за убиение Лермонтова» (Мартьянов П.К. Дела и люди века, т. 2. СПб., 1893, с. 29).
2 Неточно: заявление Мартьянова было напечатано издателем PC М.И. Семевским в приложениях к отдельному изданию «Записок» Е.А. Хвостовой, как об этом выше писал сам Васильчиков.
3 А.А. Столыпин-Монго был не двоюродный брат, а двоюродный дядя Лермонтова.
4 Михаил Павлович Глебов в 1838 году окончил юнкерскую школу вместе с Д.А. Столыпиным, который, видимо, и познакомил его с Лермонтовым. Глебов участвовал вместе с Лермонтовым в сражении при Валерике 11 июля 1840 года, где был тяжело ранен. Глебов был секундантом в дуэли Лермонтова с Мартыновым.
5 Васильчиков ошибся: сражения при Валерике были 11 июля и 30 октября 1840 года. Затем Лермонтов ездил в отпуск в Петербург, а 13 мая 1841 года приехал вместе с А.А. Столыпиным-Монго прямо в Пятигорск, так и не явившись в Тенгинский пехотный полк.
6 А.Н. Долгорукий был убит на дуэли в 1842 году своим однополчанином по л.-гв. Гусарскому полку В.В. Яшвилем.
7 Речь идет о Н.И. Тарасенко-Отрешкове, с которым поэт был коротко знаком. Этим объясняется бесцеремонное обращение с ним Лермонтова.
8 Далее в рукописи зачеркнуты следующие строки: «...в Кавалергардском полку, офицеры коего сочли своим долгом (par esprit de corps) при дуэли Пушкина с Дантесом (взять) сторону иноземного выходца противу русского поэта, ему не прощали его смелой оды по смерти Пушкина...»
9 Речь идет о Николае I.
10 Прошло не три дня, а один.
11 Васильчиков имеет в виду колонию Шотландка (или Каррас), теперь Иноземцево.
12 «К барьеру» – в наборной копии статьи было вставлено П.И. Бартеневым.
13 В устных рассказах о дуэли Васильчиков отбрасывал беспристрастный тон. Вот что записал с его слов В. Я. Стоюнин: «Лермонтов всегда устремлял свои язвительные насмешки на тех лиц, которые давали ему слабый отпор, и часто опрометчиво оскорблял их, не думая потом брать назад свои слова. То же случилось и в последнем столкновении его с Мартыновым, которого он постоянно язвил сарказмами; не находя в нем достаточно силы, чтобы отвечать тем же, он позволил себе зайти слишком далеко: стал унижать своего слабого противника в присутствии особы, которою тот очень интересовался. Мартынов был наконец выведен из терпения и обратился к поэту с упреками, в ответ на которые тот новыми шутками почти заставил его вызвать себя на дуэль. Она была, так сказать, навязана Мартынову, хотя вызов и последовал с его стороны. Расстроить ее не было никакой возможности. Когда Лермонтову, хорошему стрелку, был сделан со стороны секунданта намек, что он, конечно, не намерен убивать своего противника, то он и здесь отнесся к нему с высокомерным презрением, со словами: «Стану я стрелять в такого д...», не думая, что были сочтены его собственные минуты».
«Так рассказывал князь Васильчиков об этой несчастной катастрофе, мы записываем его слова, как рассказ свидетеля смерти нашего поэта», — пояснял В.Я. Стоюнин (Голубев А. Князь Александр Илларионович Васильчиков. СПб., 1882, с. 39).
Английский исследователь биографии Лермонтова Л. Келли, встречавшийся с потомками Васильчикова, в своей книге рассказывает: «...Васильчиков позднее говорил своему сыну Борису, что в статье он опустил одну существенную деталь, "щадя память Лермонтова". Дело в том, что когда Лермонтов подошел к барьеру, не только дуло его пистолета было направлено вверх, но он сказал своему секунданту громко, так, что Мартынов не мог не слышать: «Я в этого дурака стрелять не буду» (Kelly L. Lermontov. Tragedy in the Caucasus. London, 1977, p. 178).
Васильчиков всегда называл себя секундантом Лермонтова, как показал на суде, поскольку А.А. Столыпина и С.В. Трубецкого упоминать было нельзя. На прямой вопрос Висковатова, кто был чьим секундантом, он отвечал: «Собственно секундантами были: Столыпин, Глебов, Трубецкой и я. На следствии же показали: Глебов себя секундантом Мартынова, я – Лермонтова. Других мы скрыли». М.П. Глебов в письме к Д.А. Столыпину также называл себя секундантом Лермонтова.
В другой раз Васильчиков отвечал на вопрос того же Висковатова еще более уклончиво: «Собственно не было определено, кто чей секундант. Прежде всего Мартынов просил Глебова, с коим жил, быть его секундантом, а потом как-то случилось, что Глебов был как бы со стороны Лермонтова».
14 П.В. Висковатову Васильчиков объяснил, «что это было уже по возвращении его из Пятигорска, где он тщетно искал докторов и экипажа».
15 В рукописи: «…ливень прекратился».
16 Здесь в рукописи следовало: «Дело другое, я об этом не смею судить, нужно ли было непременно убить человека за такую пустую ссору и метить в его сердце для отомщения обиды непредумышленной. Это, повторяю, дело другое, о котором я, как свидетель дуэли...», и далее как в печатном тексте.
М.Ю. Лермонтов в воспоминаниях современников. М., 1989. С. 467 – 473, 626 – 628.