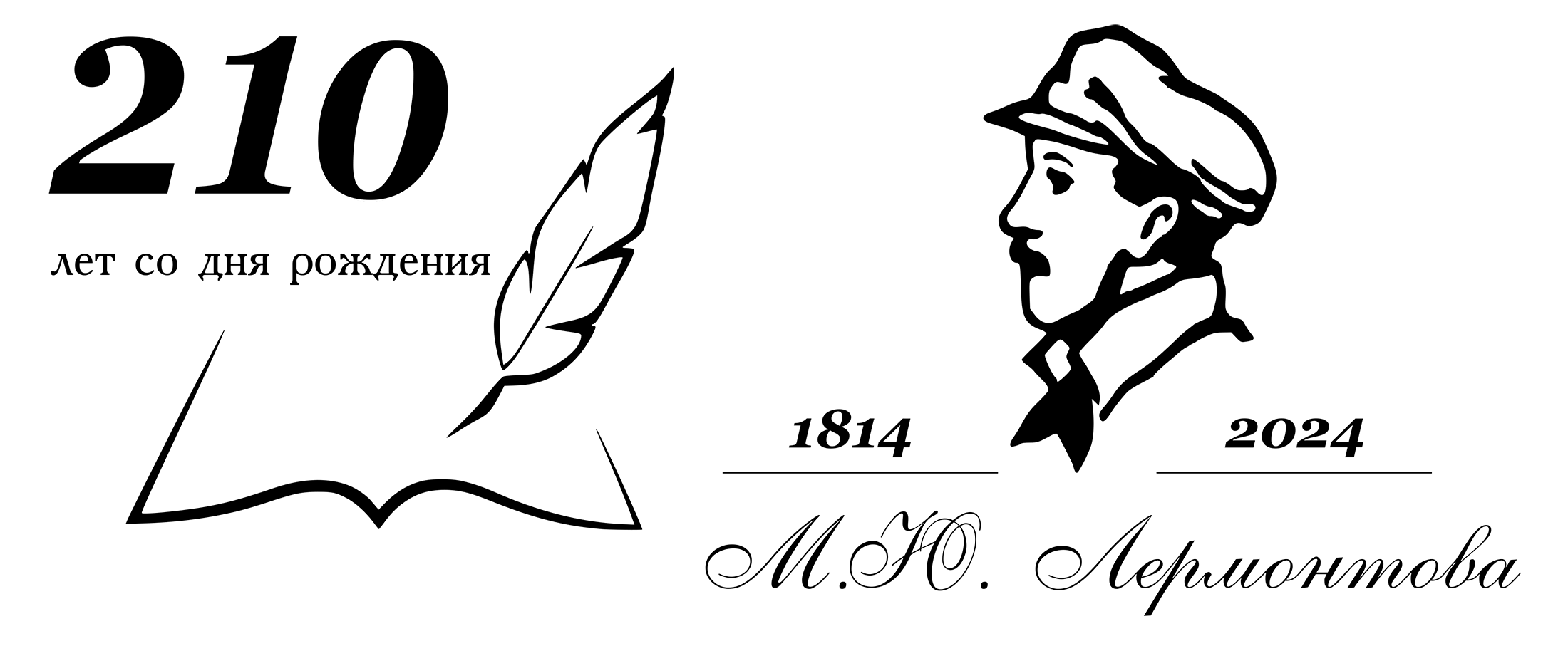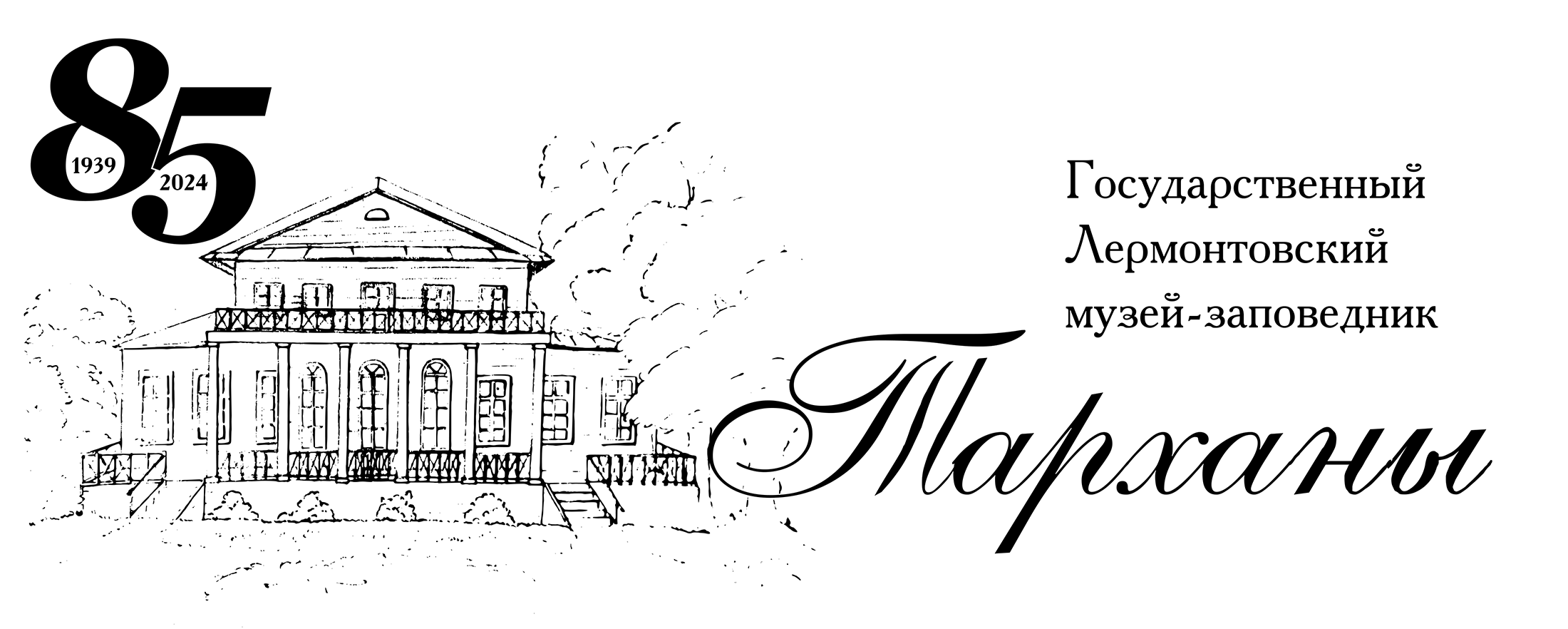В.Г. Белинский
Горбунов К. 1843
Н.В. Станкевичу1
29 сентября – 8 октября 1839 г.
На Руси явилось новое могучее дарование – Лермонтов; вот одно из его стихотворений
ТРИ ПАЛЬМЫ
(Восточное сказание)
В песчаных степях аравийской земли
Три гордые пальмы высоко росли... и т.д.
Какая образность! – так все и видишь перед собою, а увидев раз, никогда уж не забудешь! Дивная картина – так и блестит всею яркостию восточных красок! Какая живописность, музыкальность, сила и крепость в каждом стихе, отдельно взятом! Идя к Грановскому, нарочно захватываю новый № «Отечественных записок», чтобы поделиться с ним наслаждением – и что же? – он предупредил меня: «Какой чудак Лермонтов – стихи гладкие, а в стихах черт знает что – вот хоть его «Три пальмы» – что за дичь!»2 Что на это было отвечать? Спорить – но я уже потерял охоту спорить, когда нет точек соприкосновения с человеком. Я не спорил, но, как майор Ковалев частному приставу, сказал Грановскому, расставив руки: «Признаюсь, после таких с вашей стороны поступков я ничего не нахожу»3, – и вышел вон. А между тем этот человек со слезами восторга на глазах слушал «О царе Иване Васильевиче, молодом опричнике и удалом купце Калашникове».
В.П. Боткину4
16 – 21 апреля 1840 г.
Кстати: вышли повести Лермонтова5. Дьявольский талант! Молодо-зелено, но художественный элемент так и пробивается сквозь пену молодой поэзии, сквозь ограниченность субъективно-салонного взгляда на жизнь. Недавно был я у него в заточении и в первый раз поразговаривал с ним от души. Глубокий и могучий дух! Как он верно смотрит на искусство, какой глубокий и чисто непосредственный вкус изящного! О, это будет русский поэт с Ивана Великого! Чудная натура! Я был без памяти рад, когда он сказал мне, что Купер выше Вальтер Скотта, что в его романах больше глубины и больше художественной целости. Я давно так думал и еще первого человека встретил, думающего так же. Перед Пушкиным он благоговеет и больше всего любит «Онегина». Женщин ругает: одних за то, что <...>, других за то, что не <...>. Пока для него женщины и <...> – одно и то же. Мужчин он также презирает, но любит одних женщин и в жизни только их и видит. Взгляд чисто онегинский. Печорин – это он сам, как есть. Я с ним спорил, и мне отрадно было видеть в его рассудочном, охлажденном и озлобленном взгляде на жизнь и людей семена глубокой веры в достоинство того и другого. Я это сказал ему – он улыбнулся и сказал: «Дай бог!» Боже мой, как он ниже меня по своим понятиям, и как я бесконечно ниже его в моем перед ним превосходстве. Каждое его слово – он сам, вся его натура, во всей глубине и целости своей. Я с ним робок, – меня давят такие целостные, полные натуры, я пред ними благоговею и смиряюсь в сознании своего ничтожества6. <...>
Он славно знает по-немецки и Гете почти всего наизусть дует. Байрона режет тоже в подлиннике. Кстати: дуэль его – просто вздор, Барант (салонный Хлестаков) слегка царапнул его по руке, и царапина давно уже зажила. Суд над ним кончен и пошел на конфирмацию к царю. Вероятно, переведут молодца в армию. В таком случае хочет проситься на Кавказ, где приготовляется какая-то важная экспедиция против черкес. Эта русская разудалая голова так и рвется на нож. Большой свет ему надоел, давит его, тем более что он любит его не для него самого, а для женщин. <...> Ну, от света еще можно бы оторваться, а от женщин – другое дело. Так он и рад, что этот случай отрывает его от Питера. Что ты, Боткин, не скажешь мне ничего о его «Колыбельной казачьей песне». Ведь чудо!
* * *
17 марта 1842 г.
Стихотворение Лерм<онтова> «Договор» – чудо как хорошо, и ты прав, говоря, что это глубочайшее стихотворение, до понимания которого не всякий дойдет; но не такова ли же и большая часть стихотворений Лермонтова? Лермонтов далеко уступит Пушкину в художественности и виртуозности, в стихе музыкальном и упруго-гибком; во всем этом он уступит даже Майкову (в его антологических стихотворениях); но содержание, добытое со дна глубочайшей и могущественнейшей натуры, исполинский взмах, демонский полет – с небом гордая вражда7 – все это заставляет думать, что мы лишились в Лермонтове поэта, который по содержанию шагнул бы дальше Пушкина. Надо удивляться детским произведениям Лермонтова – его драме, «Боярину Орше» и т. п. (не говорю уже о «Демоне»): это не «Руслан и Людмила», тут нет ни легкокрылого похмелья, ни сладкого безделья, ни лени золотой, ни вина и шалостей амура, – нет, это – сатанинская улыбка на жизнь, искривляющая младенческие еще уста, это «с небом гордая вражда», это – презрение рока и предчувствие его неизбежности. Все это детски, но страшно сильно и взмашисто. Львиная натура! Страшный и могучий дух! Знаешь ли, с чего мне вздумалось разглагольствовать о Лермонтове? Я только вчера кончил переписывать его «Демона», с двух списков, с большими разницами, – и еще более вник в это детское, незрелое и колоссальное создание. Трудно найти в нем и четыре стиха сряду, которых нельзя было бы окритиковать за неточность в словах и выражениях, за натянутость в образах; с этой стороны «Демон» должен уступить даже «Эдде» Баратынского; но – боже мой! – что же перед ним все антологические стихотворения Майкова или и самого Анакреона, да еще в подлиннике?8 Да, Боткин, глуп я был с моею художественностию, из-за которой не понимал, что такое содержание. Но об этом никогда довольно не наговоришься. Обращаюсь к «Договору»: эта пьеса напечатана не вполне; вот ее конец:9
Так две волны несутся дружно
Случайной, вольною четой
В пустыне моря голубой:
Их гонит вместе ветер южный,
Но их разрознит где-нибудь
Утеса каменная грудь...
И, полны холодом привычным,
Они несут брегам различным,
Без сожаленья и любви,
Свой ропот сладостный и томный,
Свой бурный шум, свой блеск заемный
И ласки вечные свои...
Сравнение как будто натянутое; но в нем есть что-то лермонтовское.
Из рецензии на «Героя нашего времени»
Немного стихотворений осталось после Лермонтова. Найдется пьес десяток первых его опытов, кроме большой его поэмы – «Демон»; пьес пять новых, которые подарил он редактору «Отечественных записок» перед отъездом своим на Кавказ... Наследие не огромное, но драгоценное! «Отечественные записки» почтут священным долгом скоро поделиться ими с своими читателями. Лермонтов немного написал – бесконечно меньше того, сколько позволял ему его громадный талант. Беспечный характер, пылкая молодость, жадная впечатлений бытия, самый род жизни, – отвлекали его от мирных кабинетных занятий, от уединенной думы, столь любезной музам; но уже кипучая натура его начала устаиваться, в душе пробуждалась жажда труда и деятельности, а орлиный взор спокойнее стал вглядываться в глубь жизни. Уже затевал он в уме, утомленном суетою жизни, создания зрелые; он сам говорил нам, что замыслил написать романическую трилогию, три романа из трех эпох жизни русского общества10 (века Екатерины II, Александра I и настоящего времени), имеющие между собою связь и некоторое единство, по примеру куперовской тетралогии, начинающейся «Последним из могикан», продолжающейся «Путеводителем в пустыне» и «Пионерами» и оканчивающейся «Степями»... как вдруг –
Младой певец
Нашел безвременный конец!
Дохнула буря, цвет прекрасный
Увял на утренней заре!
Потух огонь на алтаре!..11
Нельзя без печального содрогания сердца читать этих строк, которыми оканчивается в 63 № «Одесского вестника» статья г. Андреевского «Пятигорск»: «15 июля, около 5-ти часов вечера, разразилась ужасная буря с молниею и громом: в это самое время, между горами Машукою и Бештау, скончался – лечившийся в Пятигорске М.Ю. Лермонтов. С сокрушением смотрел я на привезенное сюда бездыханное тело поэта»...
Друзья мои, вам жаль поэта:
Во цвете радостных надежд,
Их не свершив еще для света,
Чуть из младенческих одежд,
Увял!..12
1 Николай Владимирович Станкевич, с которым Белинского связывали теплые дружеские отношения, возглавлял философский и литературный кружок, в который входил и Белинский.
2 Николай Тимофеевич Грановский, историк, профессор Московского университета, был тесно связан с кружком Станкевича. Есть свидетельства того, что Грановский хотя и не относился к Лермонтову так восторженно, как Белинский, но высоко ценил «Песню... про купца Калашникова», «Спор» и другие произведения Лермонтова. Об этом см.: Гиллельсон М.И. Поэзия Лермонтова в салоне Елагиных. – Исследования и материалы, с. 253 – 270. Узнав о смерти поэта, Грановский писал: «По-прежнему печальные новости. Лермонтов, автор «Героя нашего времени», единственный человек в России, способный напомнить Пушкина (capable de rapeler Pouchkine), умер той же смертью, что и последний. Он убит на дуэли Мартыновым, братом молодой особы, которая фигурировала в его романе под именем княжны Мери. Он был моего возраста» (Исследования и материалы, с. 259).
3 Цитата из повести Н.В. Гоголя «Нос».
4 Василий Петрович Боткин – переводчик и литературный критик, член кружка Станкевича, друг Белинского. Литературная деятельность В.П. Боткина началась в «Телескопе» и «Молве» в 1836 г., продолжалась в «Московском наблюдателе» в 1838 г. и в «Отечественных записках» с 1839 г., а затем в некрасовском «Современнике». О В.П. Боткине см: Егоров Б.Ф. В.П. Боткин – литератор и критик. – Ученые записки Тартуского ун-та, 1963, вып. 139, с. 20 – 81.
5 Имеется в виду первое отдельное издание «Героя нашего времени» (СПб., 1840).
6 Ср. с воспоминаниями И.И. Панаева. (с. 309 – 310)
7 Цитата из поэмы «Демон» (редакция 1838 г.).
8 Белинский готовил «Демона» для «Отечественных записок» (сохранилась корректура), но поэма была запрещена цензурой, в 1842 г. в шестой книжке журнала появились лишь отрывки из нее. Подробнее об этом см.: Михайлова А. Белинский – редактор Лермонтова. Из истории первопечатной публикации «Демона» в «Отечественных записках» 1842 г. – ЛН, т. 57, с. 261 – 272.
9 Это не продолжение «Договора», а вторая часть стихотворения «Я верю: под одной звездою...», посвященного Е.П. Ростопчиной. Но не исключено, что в первоначальный вариант «Договора» эти строки входили. Такое предположение высказывалось в печати.Обмен мнениями в отношении «Договора» между Белинским и Боткиным не ограничился этим письмом.
В ответном письме от 22 марта 1842 г. Боткин писал Белинскому: «Я знал, что тебе понравится «Договор». В меня он особенно вошел, потому что в этом стихотворении жизнь разоблачена от патриархальности, мистики и авторитетов. Страшная глубина субъективного я, свергшего с себя все субстанциальные вериги. По моему мнению, Лермонтов нигде так не выражался весь, во всей своей духовной личности, как в этом «Договоре». Какое хладнокровное, спокойное презрение всяческой патриархальности, авторитетных, привычных условий, обратившихся в рутину. Титанические силы были в душе этого человека! <...> Внутренний, существенный пафос его есть отрицание всяческой патриархальности, авторитета, предания, существующих общественных условий и связей. Он сам, может, еще не сознавал этого – да и пора действительного творчества еще не наступила для него. Дело в том, что главное орудие всякого анализа и отрицания есть мысль, – а посмотри, какое у Лермонтова повсюдное присутствие твердой, определенной, резкой мысли – во всем, что ни писал он; заметь – мысли, а не чувств и созерцаний. Не отсюда ли происходит то, что он далеко уступает, как ты замечаешь, Пушкину – «в художественности, виртуозности, в стихе музыкальном и упруго-мягком». В каждом стихотворении Лермонтова заметно, что он не обращает большого внимания на то, чтобы мысль его была высказана изящно – его занимает одна мысль, – и от этого у него часто такая стальная, острая прозаичность выражения. Да, пафос его, как ты совершенно справедливо говоришь, есть «с небом гордая вражда». Другими словами, отрицание духа и миросозерцания, выработанного средними веками, или, еще другими словами – пребывающего общественного устройства. Дух анализа, сомнения и отрицания, составляющих теперь характер современного движения, есть не что иное, как тот диавол, демон – образ, в котором религиозное чувство воплотило различных врагов своей непосредственности. Не правда ли, что особенно важно, что фантазия Лермонтова с любовию лелеяла этот «могучий образ»; для него –
Как царь, немой и гордый, он сиял
Такой волшебно-сладкой красотою,
Что было страшно...
В молодости он тоже на мгновение являлся Пушкину – но кроткая, нежная, святая душа Пушкина трепетала этого страшного духа, и он с тоскою говорил о печальных встречах с ним. Лермонтов смело взглянул ему прямо в глаза, сдружился с ним и сделал его царем своей фантазии, которая, как древний понтийский царь, питалась ядами; они не имели уже силы над ней – а служили ей пищей; она жила тем, что было бы смертию для многих (Байрона «Сон», VIII строфа, – который ты должен непременно прочесть)» (Белинский. Письма, т. 2. СПб., 1914, с. 416, 419 – 420). В свою очередь, Белинский отвечал на это: «Письмо твое о Пушкине и Лермонтове усладило меня. Мало чего читывал я умнее. Высказано плохо, но я понял, что хотел ты сказать. Совершенно согласен с тобою. Особенно поразили меня страх и боязнь Пушкина к демону: «Печальны были наши встречи». Именно отсюда и здесь его разница с Лермонтовым. <...> О Лермонтове согласен с тобою до последней йоты; о Пушкине еще надо потолковать» (Белинский, т. XII, с. 94).
10 Об этом см. примеч. 4 на с. 534 наст. изд.
11 Цитата из «Евгения Онегина», гл. шестая, строфа XXXI.
12 Цитата из «Евгения Онегина», гл. шестая, строфа XXXVI (дана в сокращении).
М.Ю. Лермонтов в воспоминаниях современников. М., 1989. С. 300 – 304, 573 – 575.