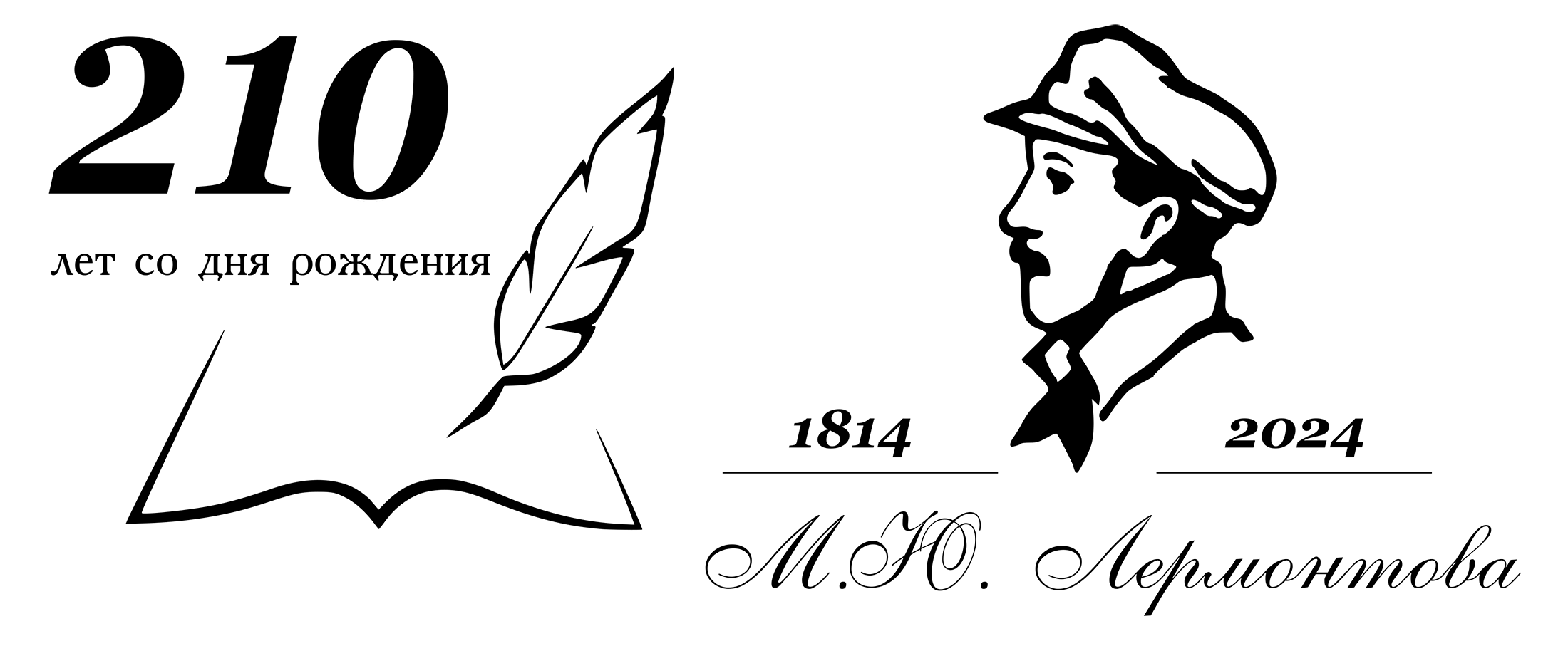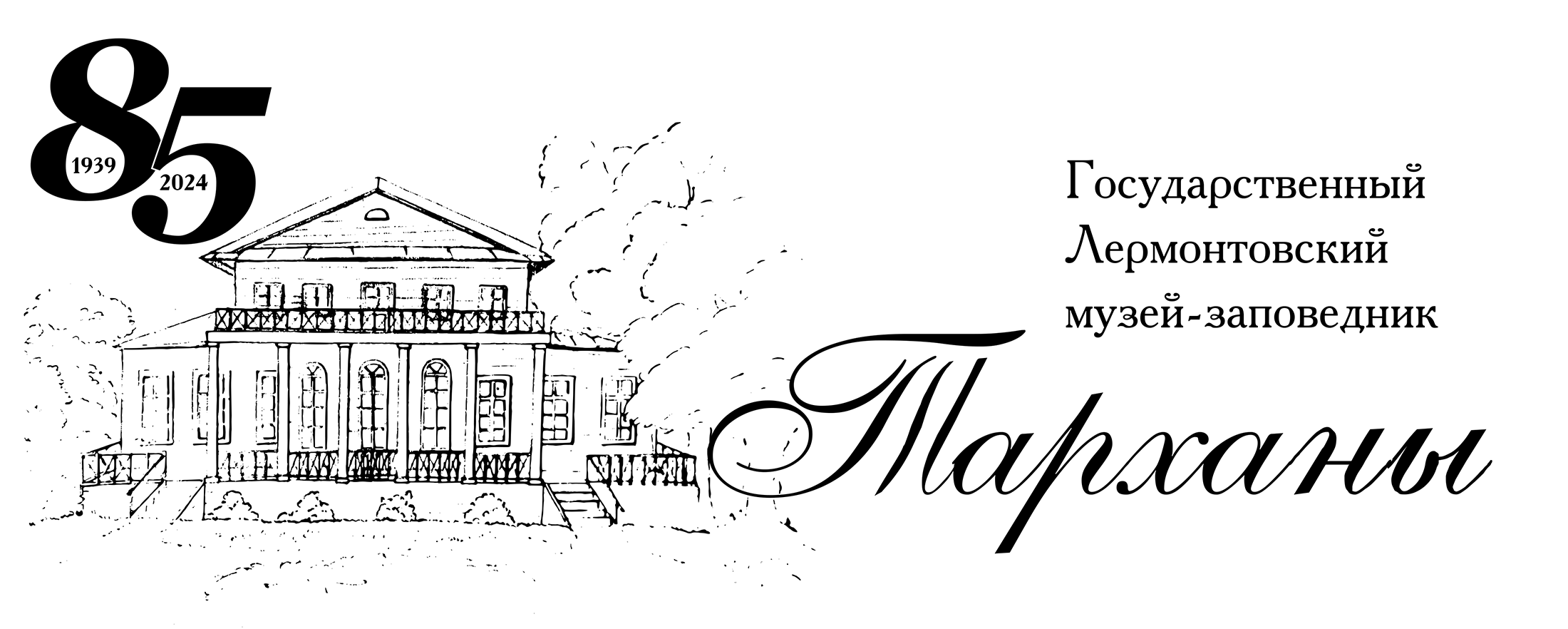Я поступил в Школу гвардейских подпрапорщиков и юнкеров юнкером л.-гв. в конный полк в начале 1831 года — в то самое время, когда полки гвардии только что выступили в польский поход, который, между прочим, отозвался и на школе. Сначала было объявлено, что все юнкера пойдут в поход со своими полками, а когда они изготовились к выступлению, состоялось другое распоряжение, по коему в поход назначены были только юнкера первого класса1, второму приказано было остаться в школе, а чтобы пополнить численность эскадрона, назначено было произвести экзамены и допустить прием в школу не в урочное время, то есть не в августе, как всегда было, а в генваре. Я был в числе тех новичков, которые держали экзамен и поступили в школу в генваре 1831 года.
Приемный экзамен, который мы держали для поступления в школу, производился в то время не тем порядком, который соблюдается теперь, то есть экзаменующихся не вызывали для ответов поодиночке, а несколько новичков в одно время распределялись по учителям, для которых в разных углах конференц-залы поставлены были столы и классные доски. Таким образом, каждый экзаменовался отдельно, и учитель, проэкзаменовав его, подходил к большому столу, который стоял посередине конференц-залы, и заявлял инспектору классов, сколько каждый экзаменующийся заслуживал баллов. <...>
Приступая к описанию обычной, ежедневной жизни юнкеров, я должен оговориться, что я имею в виду представить отдельно два периода внутреннего устройства школы. Первый период, с которого я начал свой рассказ, охватывает то время, когда командиром Школы был Годейн, а эскадронным командиром Гудим-Левкович. Это время известно под названием старой школы, о которой все мы сохранили самую задушевную память и которая кончила свое существование с назначением в 1831 году командиром школы Шлиппенбаха. Второй период, то есть время Шлиппенбаха, будет заключать в себе тяжкую для нас годину, когда строгости и крутые меры довели нашу школу до положения кадетского корпуса. Мы вынесли всю тяжесть преобразования или, иначе сказать, подтягивания нас, так что мне остается только пожалеть, что я не могу присоединить к моему рассказу третьего периода, когда Шлиппенбах почил на своих лаврах, то есть предался всецело карточной игре, и закваска старой школы всплыла опять наверх. Я уже не застал ее в школе. Считаю необходимым сделать и еще одну оговорку: учебную часть в школе я никак не мог подвести под это распределение периодов, потому что назначение Шлиппенбаха начальником школы, столь тяжело отозвавшееся для нас во всем другом, не имело никакого влияния на учебную часть. Шлиппенбах заходил в классы, собственно, для того, чтобы посмотреть, смирно ли мы сидим и не высунулась ли у кого из нас рубашка из-под куртки, а научная часть не только не занимала его, но он был враг всякой науке. Он принадлежал к той школе людей, которые были убеждены, что лицо, занимающееся науками, никогда не может быть хорошим фронтовым офицером. <...>
По существовавшему тогда обыкновению входная дверь в эскадрон на ночь запиралась и ключ от нее приносился в дежурную комнату. Стало быть, внезапного ночного посещения эскадрона кем-либо из начальников нельзя было ожидать никоим образом, и юнкера, пользуясь этим, долго засиживались ночью, одни за вином, другие за чтением какого-нибудь романа, но большею частью за картами. Это было любимое занятие юнкеров, и, бывало, когда ляжешь спать, из разных углов долго еще были слышны возгласы: «Плие, угол, атанде». <...>
Нельзя не заметить, что школьные карточные сборища имели весьма дурной характер в том отношении, что игра велась не на наличные деньги, а на долговые записки, уплата по которым считалась долгом чести, и действительно, много юнкеров дорого поплатилось за свою неопытность: случалось, что карточные долговые расчеты тянулись между юнкерами и по производстве их в офицеры. Для примера позволю себе сказать, что Бибиков, тот самый юнкер, хорошо приготовленный дома в науках, который ничему не учился в школе и вышел первым по выпуску, проиграл одному юнкеру десять тысяч рублей — сумму значительную по тому времени. Нужно заметить при этом, что распроигрался он так сильно не в самом эскадроне, а в школьном лазарете, который был в верхнем этаже и имел одну лестницу с эскадроном. Лазарет этот большей частью был пустой, а если и случались в нем больные, то свойство известной болезни не мешало собираться в нем юнкерам для ужинов и игры в карты. Доктор школы Гасовский известен был за хорошего медика, но был интересан и имел свои выгоды мирволить юнкерам. Старший фельдшер школы Ушаков любил выпить, и юнкера, зная его слабость, жили с ним дружно. Младший фельдшер Кукушкин, который впоследствии сделался старшим, был замечательный плут. Расторопный, ловкий и хитрый, он отводил заднюю комнату лазарета для юнкеров, устраивал вечера с ужинами и карточной игрой, следил за тем, чтобы юнкера не попались, и надувал их сколько мог. Не раз юнкера давали ему потасовку, поплачивались за это деньгами и снова дружились. Понятно при этом, что юнкера избрали лазарет местом своих сборищ, где и велась крупная игра. <...> Я сказал уже перед сим несколько слов о курении, но желал бы возвратиться к этому предмету, потому что он составлял лучшее наслаждение юнкеров. Замечу, что папиросок тогда не существовало, сигар юнкера не курили, оставалась, значит, одна только трубка, которая, в сущности, была в большом употреблении во всех слоях общества. Мы щеголяли чубуками, которые были из превосходного черешневого дерева, такой длины, чтобы чубук мог уместиться в рукаве, а трубка была в размере на троих, чтобы каждому пришлось затянуться три раза. Затяжка делалась таким образом, что куривший, не переводя дыхания, втягивал в себя табачный дым, сколько доставало у него духу. Это отуманивало обыкновенно самые крепкие натуры, чего, в сущности, и желали. Юнкера составляли для курения особые артели и по очереди несли обязанность хранения трубок. Наша артель состояла из Шигорина конной гвардии, Новикова тоже конной гвардии, Чернова конно-пионера и, наконец, меня. Мое дело состояло в том, чтобы стоять, когда закурят трубку, на часах в дверях между двух кирасирских камер, смотреть на дежурную комнату, а когда покажется начальник, предупредить куривших словами «Николай Николаевич». Лозунг этот был нами выбран потому, что вместе с нами поступил юнкер Пантелеев, которого звали этим именем и который до того был тих и робок, что никому и в голову не могла прийти мысль, чтобы он решился курить. Курение производилось большей частью в печке кирасирской камеры, более других прикрытой от дежурного офицера. Когда вся артель выполнит свое дело, я докуривал остальное, выколачивал трубку и относил ее в левом рукаве в свой шкапчик, где и закутывал в шинель, пропитавшуюся от того вместе с шкапчиком едким запахом табачного сока. Сколько я помню, я долго исполнял должность хозяйки2, пока сам не вступил в права деятельного члена артели, приучившись и привыкнув курить до такой степени, что, долго спустя по выходе из школы, я не курил другого табаку, кроме известного под именем «двухрублевого Жукова».
Знакомство нас, новичков, с обычаями и порядками юнкеров продолжалось недолго, и госпитальное препровождение времени было первым, о котором мы узнали, чего, в сущности, и скрыть было невозможно. Затем познакомились мы с другой лазейкой, чрезвычайно удобной во многих отношениях, — с людскими комнатами офицерских квартир, отделенными широким коридором от господских помещений. Они находились в отдельном доме, выходящем на Вознесенский проспект. Оттуда посылали мы за вином, обыкновенно за портвейном, который любили за то, что был крепок и скоро отуманивал голову. В этих же притонах у юнкеров была статская одежда, в которой они уходили из школы, потихоньку, разумеется. И здесь нельзя не сказать, до какой степени все сходило юнкерам безнаказанно. Эта статская одежда состояла из партикулярной только шинели и такой же фуражки; вся же прочая одежда была та, которую юнкера носили в школе; даже шпор, которые никак не сходились со статской одеждой, юнкера не снимали. Особенно любили юнкера надевать на себя лакейскую форменную одежду и пользовались ею очень часто, потому что в ней можно было возвращаться в школу через главные ворота у Синего моста.
Познакомившись с этими притонами, мы, новички, мало-помалу стали проникать во все таинства разгульной жизни, о которой многие из нас, и я первый в том числе, до поступления в школу и понятия не имели. Начну с тех любимых юнкерами мест, которые они особенно часто посещали. Обычными местами сходок юнкеров по воскресеньям были Фельет на Большой Морской, Гане на Невском, между двумя Морскими, и кондитерская Беранже у Синего моста. Эта кондитерская Беранже была самым любимым местом юнкеров по воскресеньям и по будням; она была в то время лучшей кондитерской в городе, но главное ее достоинство состояло в том, что в ней отведена была отдельная комната для юнкеров, за которыми ухаживали, а главное, верили им в долг. Сообщение с ней велось в школе во всякое время дня; сторожа непрерывно летали туда за мороженым и пирожками. В те дни, когда юнкеров водили в баню, этому Беранже была большая работа: из его кондитерской, бывшей наискось от бани, носились и передавались в окно подвального этажа, где помещалась баня, кроме съестного, ликеры и другие напитки. Что творилось в этой бане, считаю излишним припоминать, скажу только, что мытья тут не было, а из бани зачастую летали пустые бутылки на проспект. <...>
...Несмотря на возраст юнкеров (в школу могли поступать только лица, имевшие не менее семнадцати лет), между ними преобладали школьные, детские проказы, вроде того, например, чтобы подделать другому юнкеру кровать, причем вся камера выжидала той минуты, когда тот ляжет на нее и вместе с досками и тюфяком провалится на землю, или, когда улягутся юнкера спать, протянуть к двери веревку и закричать в соседней камере: «Господа, из нашего окна виден пожар». Потеха была, когда все кинутся смотреть пожар и образуют в дверях кучку. Эта школьная штука удалась нам один раз уже через меру хорошо. В кучке очутился дежурный офицер уланского полка Дризен, выбежавший из своей комнаты тоже посмотреть на пожар. Рассердился он сначала, да скоро обошелся. <...>
Как ни странным покажется, но справедливость требует сказать, что, несмотря на такое преобладание между юнкерами школьного ребяческого духа, у них был развит в сильной степени point d'honneur* офицерских кружков. Мы отделяли шалость, школьничество, шутку от предметов серьезных, когда затрагивалась честь, достоинство, звание или наносилось личное оскорбление. Мы слишком хорошо понимали, что предметами этими шутить нельзя, и мы не шутили ими. В этом деле старые юнкера имели большое значение, направляя, или, как говорилось обыкновенно, вышколивая новичков, в числе которых были люди разных свойств и наклонностей. Тем или другим путем, но общество, или, иначе сказать, масса юнкеров достигала своей цели, переламывая натуры, попорченные домашним воспитанием, что, в сущности, и не трудно было сделать, потому что одной личности нельзя же было устоять противу всех. Нужно сказать, что средства, которые употреблялись при этом, не всегда были мягки, и если весь эскадрон невзлюбит кого-нибудь, то ему было не хорошо. Особенно преследовались те юнкера, которые не присоединялись к товарищам, когда были между ними какие-нибудь соглашения, не любили также и тех, которые передавали своим родным, что делалось в школе, и это потому, что родные, в особенности маменьки, считали своею обязанностью доводить их жалобы до сведения начальства. Предметом общих нападок были вообще те, которые отделялись от общества с юнкерами или заискивали в начальстве, а также натуры вялые, хилые и боязливые. Более всего подвергались преследованию новички, не бывшие до поступления в школу в каком-нибудь казенном или общественном заведении и являвшиеся на службу прямо из-под маменькиного крылышка, в особенности если они, как тогда выражались, подымали нос. Нельзя не заметить при этом, что школьное перевоспитание, как оно круто ни было, имело свою хорошую сторону в том отношении, что оно формировало из юнкеров дружную семью, где не было места личностям, не подходящим под общее настроение. <...>
Позволю себе несколько слов о бритье, которое играло в нашем туалете немаловажную роль. Все юнкера имели то убеждение, что чем чаще они будут бриться, тем скорее и гуще отрастут у них борода и усы, а желание иметь усы было преобладающей мечтою всего эскадрона. На этом основании все те, у кого не было еще и признаков бороды, заставляли себя брить по нескольку раз в сутки. Операцией этой занимался инвалидный солдат Байков, высокий худощавый мужчина, ходивший в эскадрон во всякое время и всегда с мыльницею и бритвами. Мы его любили за то, что он хотя и был ворчун, но выполнял наши требования. Случалось, что выйдешь за чем-нибудь из класса и, встретив его, скажешь: «Байков, брей», — и он на том же самом месте, где застал требование, намылит место для усов и выбреет. И это случалось по нескольку раз в день.
Чтобы покончить с туалетной частью, упомяну тех лиц, которые снабжали нас предметами обмундирования. Вот перечень наших поставщиков: белые фуражки без козырьков делал нам литаврщик конной гвардии Афанасьев, который один умел давать им чрезвычайно шикарный вид, сохраняя при этом форму; он до такой степени усовершенствовался в делании фуражек, что работал почти на весь город. Каски наши с плоским гребнем делал замечательно красиво, с большим вкусом еврей Эдельберг, не имевший на свое имя ни лавки, ни фирмы какой-нибудь, а был он просто личностью, таскавшейся в эскадрон, где служил потехою юнкеров. Ленивый разве его не тормошил и не таскал; он же делал нам и кирасы, тоже весьма щеголевато, и брал за все втридорога. Лосину заказывали одни у Френзеля, а другие у Хунгера, у первого лосина была лучше, но поверят ли теперь, что у него лосина стоила сто рублей; второй был попроще, работал недурно и брал человеческие цены; я платил у него за лосину с красными перчатками 25 руб. Рейтузы составляли для нас предмет первой важности, и трудно было приноровиться к нашим требованиям, которые состояли в том, чтобы рейтузы выполняли, во-первых, главное свое назначение, то есть чтобы подходили под шаг, потом, чтобы от талии к коленам они немного суживались, а от колен книзу чтобы шли расширяясь. Один только портной умел удовлетворять эти требования и славился умением шить рейтузы, — это был дворовый человек юнкера Хомутова, по имени Иван. Колеты, шинели и куртки нам шили в школьной швальне. <...>
Учебный курс продолжался в школе два года; сначала поступали во второй класс, а потом переводили в первый, откуда уже юнкера выпускались в офицеры. Поступление мое в школу совпало с тем временем, когда первого класса не было, за уходом юнкеров этого класса в поход. Второй класс доканчивал курс и в мае месяце должен был держать переходные экзамены. Нам, новичкам, поступившим в феврале, предоставлено было право или присоединиться ко второму классу и с ним держать экзамен для перехода в первый класс (таких нашлось немного), или начать курс с начала его, то есть с 1 августа (таких было большинство, и я в том числе). Таким образом, хотя мы и ходили до лагеря в классы, но ничем не занимались, да, в сущности, мало занимались и другие. Классы посвящались обыкновенно разговорам, чтению книг, которые прятались по приходе начальника, игре в орлянку на задней скамейке и шалостям с учителем.
* чувство чести (фр.).
1 Старший класс в юнкерской школе.
2 То есть хранил у себя коллективную трубку.
М.Ю. Лермонтов в воспоминаниях современников. М., 1989. С. 154 — 161.