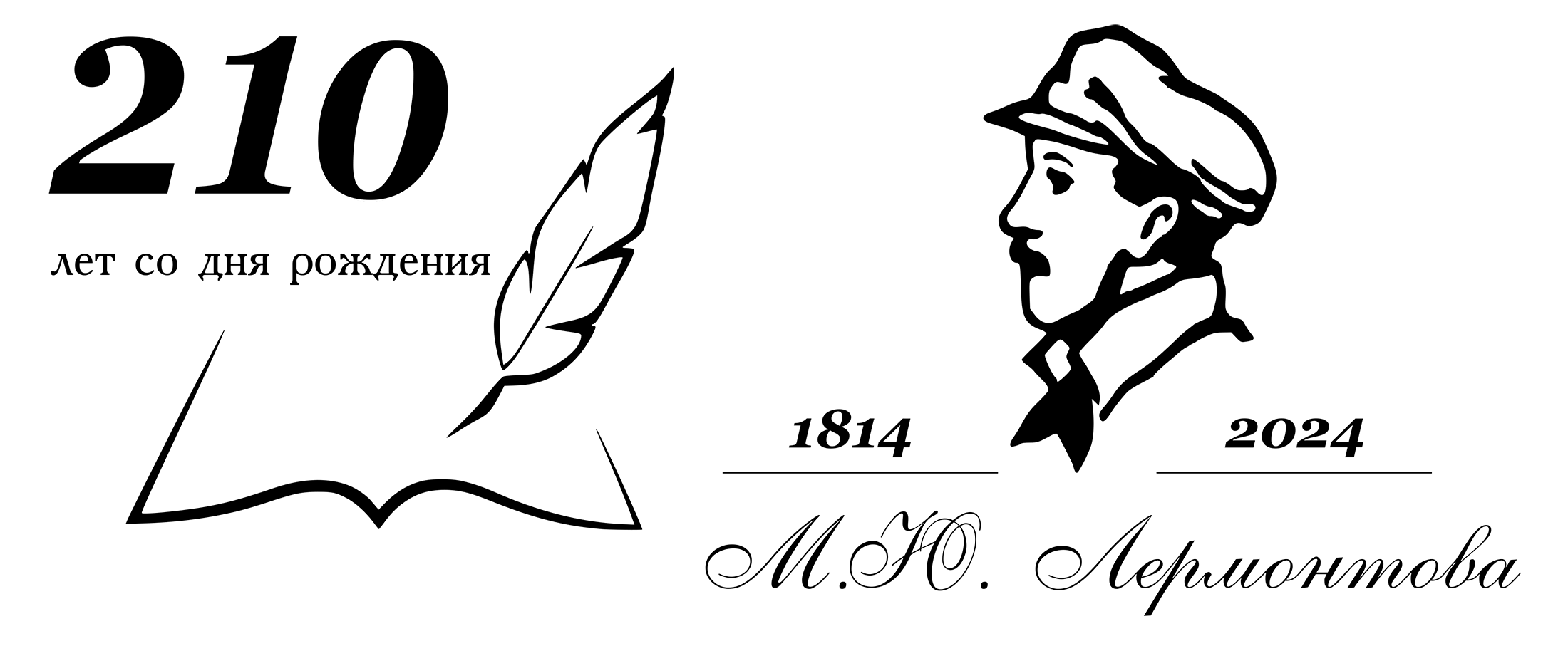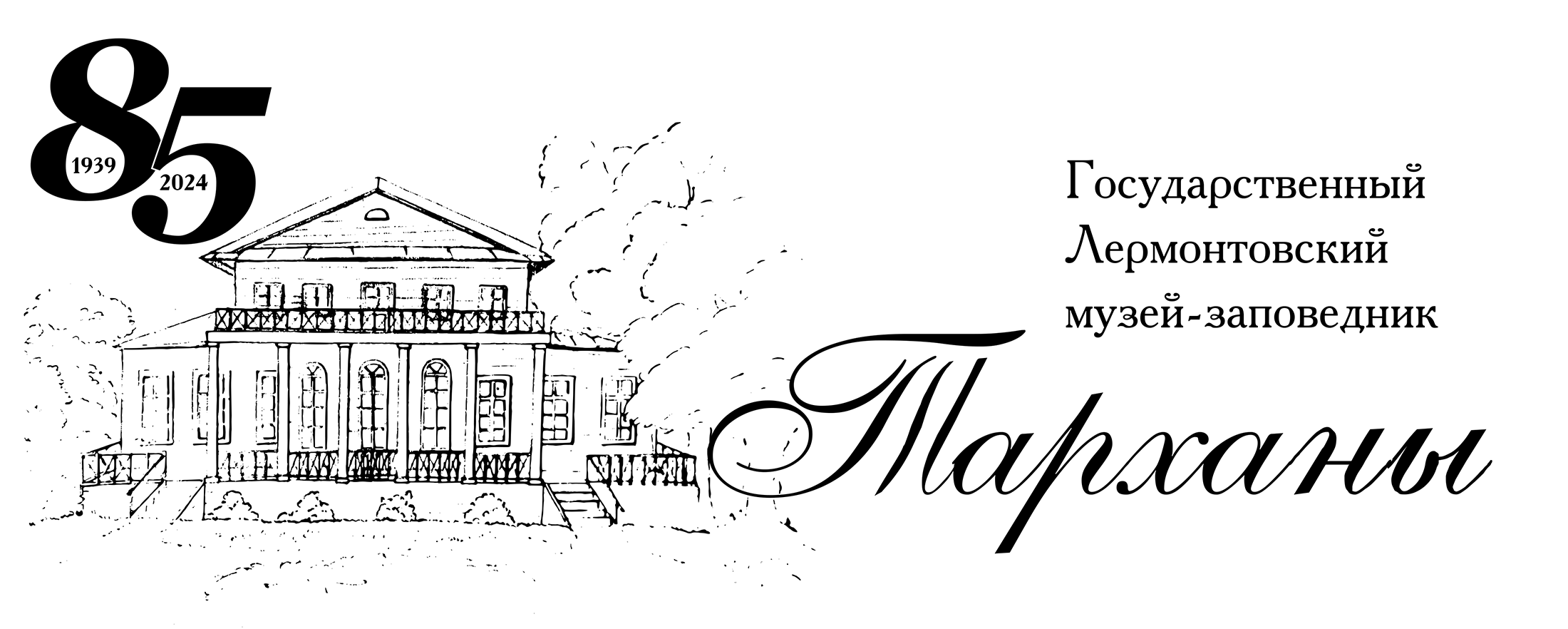«Я знал его: мы странствовали с ним…», – так М.Ю. Лермонтов начинает стихотворение, посвященное памяти человека, знакомство с которым не было продолжительным, но, по свидетельствам современников, именно Лермонтовым ему была дана самая верная и точная характеристика:
В нем тихий пламень чувства не угас:
Он сохранил и блеск лазурных глаз,
И звонкий детский смех, и речь живую,
И веру гордую в людей и жизнь иную.
Несмотря на то, что стихотворение, вышедшее в №12 «Отечественных записок» за 1839 год, было напечатано под заглавием «Памяти А.И. О-го», современники поэта легко узнали в лирическом герое одного из ярких представителей русской культуры первой половины ХIХ века Александра Ивановича Одоевского.
Александр Иванович родился 8 декабря 1802 года в Петербурге, в семье генерал-майора Ивана Сергеевича Одоевского и его супруги Прасковьи Александровны. Оба родителя были представителями княжеского рода Одоевских. Семья для Александра Ивановича была настоящей крепостью, защищавшей его не только физически, но и нравственно. «Родители мои дали мне воспитание, приличное Дворянину Русскому», – свидетельствовал он. Особую любовь питал Александр к матушке, о чем искренне признавался впоследствии: «Мать моя была моею постоянною и почти единственною наставницею в нравственности». В письмах к друзьям он называл ее «вторым своим Богом» и не мог думать о ней без глубокого волнения лет шестнадцать спустя после ее смерти (к сожалению, ее не стало в 1820 году).
А.И. Одоевский получил домашнее образование. Учитывая обширность предметов, родители не скупились на домашних учителей: российский язык и словесность, французский, немецкий, английский, латинский, греческий языки, история и статистика, математика, физика, богословие, полевая и долговременная фортификация, – все к пользе «русского дворянина». «В словесности и математике старался я всего более усовершенствоваться», – отмечал Александр Иванович.
13-летним юношей он был зачислен на службу канцеляристом. В течение нескольких лет был губернским секретарем, в 1820 году ушел в отставку, а через год поступил на правах вольноопределяющегося унтер-офицером в лейб-гвардии Конный полк, вскоре произведен в юнкеры, чуть позже – в эстандарт-юнкеры, а 23 февраля 1823 года – в корнеты. В этом статусе Одоевский себе нравился, судя по его переписке с двоюродным братом, Владимиром Федоровичем Одоевским, который всерьез был увлечен немецкой философией, а Александр, обладая острым умом и искусно владея пером, эксцентрично парировал родственнику, пытавшемуся вызвать интерес к своему предмету:
Я заметил, что ты не только философ на словах, но и на самом деле, ибо первое правило человеческой премудрости быть счастливым, довольствуясь малым. <…> Ты, право, философ на самом деле! Желаю тебе дальнейших успехов в практическом любомудрии. Мой жребий теперь, мое дело быть весьма довольным новым состоянием своим и обстоятельствами. И я философ! Я смотрю на свои эполеты, и вся охота к опровержению твоих суждений исчезла у меня. Мне, право, не до того. Верю всему, что ты пишешь; верю честному твоему слову, а сам беру шляпу с белым султаном и спешу на Невский проспект.
«Новое состояние» не мешало Александру Одоевскому упражняться в литературном мастерстве, к чему пристрастился он довольно рано. Однако современники вспоминали, что Александр Иванович относился с необъяснимым презрением к печати, и если бы его друзья не записывали за ним стихотворений, то все они так навсегда бы и пропали. Только почти полвека спустя, в 1883 году, барон Розен впервые собрал стихотворения своего покойного друга и напечатал их отдельной книгой.
Среди литературных друзей особое место в его жизни занимал А.С. Грибоедов, который был его частым спутником. В 1824 году Одоевский во время наводнения в Петербурге спас друга, рискуя жизнью. А.С. Грибоедов погиб в январе 1829 года, когда Александр Иванович уже был в далекой Сибири. Много позже, после ссылки, Одоевский оказался в Тифлисе. А. Розен, заставший его там, вспоминал, что «часто он хаживал на могилу своего друга Грибоедова, воспел его память, воспел Грузию звучными стихами».
В молодые годы на почве любви к словесности А.И. Одоевский сошелся с К.Ф. Рылеевым, А.А. Бестужевым, В.К. Кюхельбекером. «В конце прошлого 1824 года познакомился я с Бестужевым. Я любил заниматься словесными науками: это нас свело. Когда приехал Рылеев, то он познакомил меня с ним», – свидетельствовал юный корнет во время следствия по делу декабристов. А.А. Бестужев и В.К. Кюхельбекер пользовались гостеприимством Одоевского, проживая в разное время в его квартире. Литературные друзья и приняли Александра Ивановича в члены тайного общества. «С Рылеевым часто рассуждал я о законах, о словесности и проч. <…>, но с Кюхельбекером, в малое время его пребывания у меня, я ни о чем ином не говаривал, как только о поэзии; потому, что он больше ничего не делал, как только писал стихи», – пояснял на допросе Александр Иванович.
Свое участие в тайном обществе, а также событиях, произошедших 14 декабря 1825 года на Сенатской площади, Одоевский объяснял шалостью и ребячеством. Однако следствие установило, что он «участвовал в умысле бунта», а 14 декабря «лично действовал в мятеже, с пистолетом в руках».
В Алексеевском равелине Петропавловской крепости А.И. Одоевский сидел рядом с Н.А. Бестужевым. «Одоевский был молодой пылкий человек и поэт в душе. Мысли его витали в областях фантазии, а спустившись на землю, он не знал, как угомонить потребность деятельности его кипучей жизни. Он бегал как запертый львенок в своей клетке, скакал через кровать или стул, говорил громко стихи и пел романсы. Одним словом, творил такие чудеса, от которых у стражей волосы поднимались дыбом; что ему ни говорили, как ни стращали – все напрасно. Он продолжал свое, и кончилось тем, что его оставили», – рассказывал впоследствии брат тюремного соседа Одоевского, М.А. Бестужев.
1 февраля 1827 года Одоевского в числе многих осужденных увезли в Сибирь. Из воспоминаний А. Беляева, также разделившего участь каторжан:
Комендант … заявил нам, что имеет высочайшее повеление, заковав нас в цепи, отправить по назначению. При этом он дал знак, по которому появились сторожа с оковами; нас посадили, заковали ноги и дали веревочку в руки для их поддерживания. Оковы были не очень тяжелы, но оказались не совсем удобными для движения. С грохотом мы двинулись за фельдъегерем, которому нас передали. У крыльца стояло несколько троек. Нас посадили по одному в каждые сани с жандармом, которых было четверо, столько же, сколько и нас, и лошади тихо и таинственно тронулись. Городом мы проехали мимо дома Кочубея, великолепно освещенного, где стояли жандармы и пропасть карет. Взглянув на этот бал, Одоевский написал потом свою думу, озаглавленную «Бал мертвецов».
К быту ссыльных глубоко образованное общество декабристов привыкло и приспособилось с максимальным удобством. Постепенно была налажена доставка периодической печати, устраивались музыкальные вечера:
Между нами были отличные музыканты, как-то: Ивашев, Юшневский, Витковский, оба брата Крюковы; они в совершенстве владели разными инструментами. Явились вскоре рояли, скрипки, виолончели, составились оркестры, а один из товарищей, Свистунов, зная отлично вокальную музыку, составил из нас превосходный хор и дирижировал им. Бывало, народ обступит частокол нашей тюрьмы и слушает со вниманием гимны и церковное пение... (из записок Н.И. Лорера).
Пелись часто хором «под звуки музыки» и стихи А.И. Одоевского, которые были признаны современниками «звучными и прекрасными».
Не желая покоряться незамысловатому существованию в ссылке, наиболее активные «товарищи-специалисты» читали лекции: Н. Муравьев – стратегии и тактики, Ф.Б. Вольф – по химии и физике, П.С. Бобрищев-Пушкин – по прикладной и высшей математике, А.О. Корнилович и П.А. Муханов – по русской истории, К.П. Торсон – по астрономии, А.И. Одоевский читал русскую словесность. В связи с этим барон А. Розен впоследствии вспоминал о курьезной ситуации, возникшей с лектором Одоевским:
А.И. Одоевскому в очередной день следовало читать о русской литературе: он сел в углу с тетрадью в руках, начал с разбора песни о походе Игоря, продолжал несколько вечеров и довел лекции до состояния русской словесности в 1825 году. Окончив последнюю лекцию, он бросил тетрадь на кровать, и мы увидели, что она была белая, без заметок, без чисел хронологических, и что он все читал на память. Упоминаю об этом обстоятельстве не как о подвиге или о желании выказаться, но, напротив того, как о доказательстве, до какой степени Одоевский избегал всяких писаний; может быть, он держал пустую тетрадь в руках для контенанса (то есть «для приличия»); в первую лекцию, воспламенившись вдохновением, он изредка краснел, как бывало с ним при сочинении рифмованных экспромтов.
В 1827 году важным одухотворяющим событием в жизни каторжан стало послание «Во глубине сибирских руд…» А.С. Пушкина, ответ на которое не заставил себя ждать, А.И. Одоевский от лица всех ссыльных писал:
До слуха нашего дошли,
К мечам рванулись наши руки,
И – лишь оковы обрели.
Но будь покоен, бард! – цепями,
Своей судьбой гордимся мы,
И за затворами тюрьмы
В душе смеемся над царями.
Наш скорбный труд не пропадет,
Из искры возгорится пламя,
И просвещенный наш народ
Сберется под святое знамя.
Мечи скуем мы из цепей
И пламя вновь зажжем свободы!
Она нагрянет на царей,
И радостно вздохнут народы!
Стоит обратить внимание на то, что именно А.И. Одоевский – автор ставшей впоследствии лозунгом фразы: «Из искры возгорится пламя».
В 1833 году срок каторги закончился, и Одоевский выехал на поселение в с. Еланское Иркутской губернии. Здесь за 400 рублей им был прикуплен дом и разведено некоторое хозяйство. Судя по описи имущества, сделанной Волостным Головой, у Александра Ивановича были не только «земля самим расчищенная», 4 лошади, 1 корова, 4 свиньи, прочее хозяйство, но и «форте-пьяна» в горнице, а также набор приличной посуды и картины в «золотых рамах». Опись была сделана в 1836 году, когда Одоевский, покидая Еланское, «все домообзаведение свое» передал декабристу В.И. Штейнгейлю.
С высочайшего разрешения 23 мая 1836 года, по ходатайству отца, поддержанному князем И.Ф. Паскевичем, Одоевский был переведен на поселение в селение Ишим Тобольской губернии, сам же Александр Иванович ходатайствовал перед Бенкендорфом о разрешении вступить рядовым в армию, действовавшую на Кавказе. Это прошение было удовлетворено царем 19 июня 1837 года, и вскоре Одоевский, определенный рядовым в Нижегородский драгунский полк, отправился к «горам Востока». Путь пролегал через Казань, где состоялось трогательное свидание с отцом, Иваном Сергеевичем, который выехал навстречу. Н.И. Лорер так рассказывает в своих записках об этом:
70-летний князь Одоевский также приехал двумя днями ранее нас, чтоб обнять на пути своего сына, и остановился у губернатора Стрекалова, своего давнишнего знакомого. В день нашего въезда в Казань, узнав, что его любимое детище, Александр Одоевский, уже в городе, старик хотел бежать к сыну, но его не допустили, а послали за юношей. Сгорая весьма понятным нетерпением, дряхлый князь не выдержал и при входе своего сына все-таки побежал к нему навстречу по лестнице; но тут силы ему изменили, и он, обнимая сына, упал, увлекши и его с собою. Старика подняли, привели в чувство, и оба счастливца плакали и смеялись от избытка чувств.
О прибытии декабристов в действующую армию вспоминал Н.А. Сатин:
Осенью 1837 года в Ставрополь привезли декабристов Нарышкина, Лорера, Розена, Лихарева и Одоевского. <…> из всех веселостью, открытой физиономией и игривым умом отличался Александр Одоевский. Это был действительно «мой милый Саша», как его прозвал Лермонтов. Ему было тогда 34 года, но он казался гораздо моложе, несмотря на то, что был лысый. Улыбка, не сходившая почти с его губ, придавала лицу его этот вид юности.
Их знакомство с М.Ю. Лермонтовым состоялось той же осенью. Одоевский был значительно старше. Наверняка об Александре Ивановиче автор стихов на смерть А.С. Пушкина мог слышать в Москве и Петербурге от общих знакомых. Важно, что оба они уже имели свои «истории» за плечами. Одоевский ехал из ссылки, Лермонтов приехал в свою первую. Да и сама тема декабристов привлекала особое внимание. С момента восстания на Сенатской площади прошло почти 12 лет, но сколько раз в модных гостиных столичных квартир и сельских помещичьих домов говорилось об этом событии. Можно с большой долей вероятности предположить, что новости о восстании 1825 года обсуждались и в Тарханах. Братья Е.А. Арсеньевой, Дмитрий (его портрет представлен в музее-заповеднике «Тарханы», в экспозиции барского дома) и Аркадий Столыпины, были близки к кругу декабристов, их даже прочили в состав Временного правительства. В круг друзей А.А. Столыпина входили К.Ф. Рылеев, А.С. Грибоедов. Поэтому уже в детстве судьба декабристов могла волновать М.Ю. Лермонтова.
Одоевского и Лермонтова, бесспорно, сближало и литературное творчество, но в условиях военной экспедиции более ценились отвага и удаль, чего также было не занимать обоим. Сохранились воспоминания А.П. Беляева о том, что, увидев «во всем блеске удальство линейных казаков, их ловкость на коне, поднятие монет на всем скаку», Одоевский хотел «непременно достигнуть того же, беспрестанно упражнялся и, конечно, не раз летал с лошади». О Лермонтове, сосланном на Кавказ уже в 1840 году, современники вспоминали, что «он был отчаянно храбр, удивлял своею удалью даже старых кавказских джигитов…».
Летом 1839 года Одоевский в Пятигорске познакомился еще с одним молодым поэтом Н.П. Огаревым, на которого произвел сильнейшее впечатление:
Одоевский был, без сомнения, самый замечательный из декабристов, бывших в то время на Кавказе. Лермонтов писал его с натуры. Да, «этот блеск лазурных глаз, и звонкий детский смех, и речь живую» не забудет никто из знавших его. <…> Он носил свою солдатскую шинель с тем спокойствием, с каким выносил каторгу и Сибирь… Отрицание самолюбия Одоевский развил в себе до крайности. Он никогда не только не печатал, но и не записывал своих многочисленных стихотворений, не полагая в них никакого общего значения. Он сочинял их наизусть и читал наизусть людям близким. В голосе его была такая искренность и звучность, что его можно было заслушаться... Он обыкновенно отклонял всякое записывание своих стихов. <…> у меня в памяти осталась музыка его голоса – и только. Мне кажется, я сделал преступление, ничего не записывая...
Несложно заметить, что современники, вспоминая А.И. Одоевского, делают отсылки к его образу, созданному М.Ю. Лермонтовым. Возвращаясь к стихотворению «Памяти А.И. Одоевского», отметим, что оно было написано в 1839 году после известия о смерти Александра Ивановича, который скончался от малярийной лихорадки при строительстве форта Лазарева на Черном море. По мнению некоторых исследователей, в частности, Ю.И. Айхенвальда, «князь Александр Иванович Одоевский живет для русских читателей не столько в собственных стихотворениях, сколько в знаменитой элегии, которую посвятил ему Лермонтов и в которой такими привлекательными чертами вырисовывается «мой милый Саша». Соединив свое бессмертное имя с негромким именем своего кавказского товарища, Лермонтов оказал ему великую поэтическую услугу и приобщил его к собственной славе». Как ни лестно звучало бы это утверждение для почитателей творчества М.Ю. Лермонтова, все же трудно с этим согласиться. Если «прославивший» Одоевского поэт обратился к этому образу, значит, образ стоил и его внимания, и такого памятника, каковым явились стихи «Памяти А.И. Одоевского».
В горах востока, и тоску изгнанья
Делили дружно; но к полям родным
Вернулся я, и время испытанья
Промчалося законной чередой;
А он не дождался минуты сладкой:
Под бедною походною палаткой
Болезнь его сразила, и с собой
В могилу он унес летучий рой
Еще незрелых, темных вдохновений,
Обманутых надежд и горьких сожалений!
Он был рожден для них, для тех надежд,
Поэзии и счастья... Но, безумный —
Из детских рано вырвался одежд
И сердце бросил в море жизни шумной,
И свет не пощадил — и бог не спас!
Но до конца среди волнений трудных,
В толпе людской и средь пустынь безлюдных,
В нем тихий пламень чувства не угас:
Он сохранил и блеск лазурных глаз,
И звонкий детский смех, и речь живую,
И веру гордую в людей и жизнь иную.
Но он погиб далеко от друзей!..
Мир сердцу твоему, мой милый Саша!
Покрытое землей чужих полей,
Пусть тихо спит оно, как дружба наша
В немом кладбище памяти моей!
Ты умер, как и многие, без шума,
Но с твердостью. Таинственная дума
Еще блуждала на челе твоем,
Когда глаза закрылись вечным сном;
И то, что ты сказал перед кончиной,
Из слушавших тебя не понял ни единый...
И было ль то привет стране родной,
Названье ли оставленного друга,
Или тоска по жизни молодой,
Иль просто крик последнего недуга,
Кто скажет нам?.. Твоих последних слов
Глубокое и горькое значенье
Потеряно... Дела твои, и мненья,
И думы — всe исчезло без следов,
Как легкий пар вечерних облаков:
Едва блеснут, их ветер вновь уносит;
Куда они? зачем? откуда? — кто их спросит...
И после их на небе нет следа,
Как от любви ребенка безнадежной,
Как от мечты, которой никогда
Он не вверял заботам дружбы нежной...
Что за нужда? Пускай забудет свет
Столь чуждое ему существованье:
Зачем тебе венцы его вниманья
И терния пустых его клевет?
Ты не служил ему. Ты с юных лет
Коварные его отвергнул цепи:
Любил ты моря шум, молчанье синей степи —
И мрачных гор зубчатые хребты...
И, вкруг твоей могилы неизвестной,
Всe, чем при жизни радовался ты,
Судьба соединила так чудесно:
Немая степь синеет, и венцом
Серебряным Кавказ ее объемлет;
Над морем он, нахмурясь, тихо дремлет,
Как великан, склонившись над щитом,
Рассказам волн кочующих внимая,
А море Черное шумит не умолкая.
М.Ю. Лермонтов. Памяти А.И. Одоевского, 1839